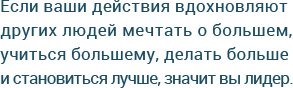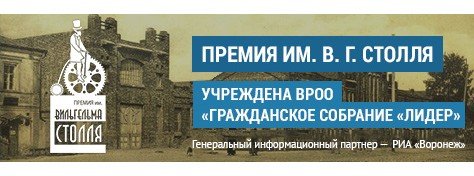- О ЛИДЕРЕО ЛИДЕРЕ
- Участники
- Информация Информация
- ПроектыПроекты
- ЖенсоветЖенсовет
- ФотогалереяФотогалерея
- ВидеоВидео
- Контакты
- Я наследник героев

27 ноября 2014
«Мы уже 20 с лишним лет назад вошли в мировую систему разделения труда, полностью отказавшись от каких-либо систем защиты от внешнего мира. Они бывают сильными — как, например, в Китае — и более мягкими. Но мы отказались практически от всего. Это была целенаправленная политика. Сегодня можно обсуждать, конечно, правильно это было или нет, но сделать уже ничего нельзя. Проблема состоит в том, что сама по себе эта модель находится в глубоком кризисе, что связано это с двумя обстоятельствами. Первое — системная слабость самой модели. Эта модель, которая появилась в 16 веке, модель углубления и разделения труда, модель научно-технического прогресса. У нее есть одна принципиальная слабость — она ограничена во времени. Иными словами, в некоторые моменты процессы углубления и разделения труда останавливаются. Это написал еще Адам Смит в конце 18 века. Мы сталкиваемся с этим постоянно, но не всегда обращаем внимание. Например, есть хутор, где живет три семьи. Там не может быть кузнеца, поскольку эти три семьи не вырабатывают достаточно продуктов, чтобы содержать работника, который занимается только металлом. А если это село, в котором 200 дворов, то там уже есть кузнец, но он сможет, к примеру, исправить плуг или лопату, но не сделает велосипед, потому что для этого требуется определенное качество металла, которого можно добиться только на заводе. А завод может быть только в городе. Так вот, чтобы в рамках этой модели развитие происходило постоянно, необходимо расширять рынки. Если мы посмотрим на историю, то увидим, что с конца 18-го по середину 20 века в мире образовалось пять более или менее независимых систем разделения труда, которые между собой конкурировали. Первой возникла британская система, второй — германская, третьей — американская, четвертой — японская, пятой — советская. Эти системы между собой жестко конкурировали. Первая схватка — Первая мировая война, потом — Вторая мировая война, после которой из пяти систем осталось две — советская и американская. Затем случился кризис 70-х годов, из которого СССР выйти не сумел, а США придумали способ, как из него выйти на время. В результате они выиграли в 70-е годы, разрушили СССР. Однако этот кризис сегодня повис над нами, отложенный кризис 70-х годов.
Сейчас я расскажу выдуманную историю, но она показывает, что придумали США в 80-е годы, и с чем мы сегодня столкнулись. История такая. Некий джентльмен возвращается вечером домой, его встречает жена со словами: «Дорогой, у нас катастрофа!». «Что-то случилось с детьми?». «Нет-нет, с ними все в порядке, но у нас сломалась стиральная машинка». «Я сейчас поужинаю, лягу спать, а утром решу проблему». «Нет-нет, мне нужно, чтобы ты решил сейчас, ты же глава семьи». И вот наш герой оказывается на улице, что делать — непонятно, и тут он увидел на соседнем доме надпись с волшебным словом «Банк». Он бежит в банк, где его вежливо встречают. Джентльмен объясняет, что ему нужна стиральная машина. Сотрудник банка задает ему вопрос, который вы никогда не услышите ни в одной кредитной организации: «Простите, пожалуйста, а сколько вы сможете нам платить в год, чтобы это не было обременительно для вашего семейного бюджета?». Наш герой говорит: 1000 рублей в год. «У нас есть правило: за каждый вложенный в клиента рубль, мы хотим получить обратно 1 рубль 20 копеек, то есть на 20% больше. Мы дадим вам 5 тысяч рублей в кредит. Вы заплатите в первый год 1000 рублей — это будут проценты, и потом пять лет по тысяче рублей — основной долг». Ему выдают кредит, он покупает стиральную машинку, мир в семье восстановлен. Через год он приходит с 1000 рублей в банк. Ему говорят: «Сейчас экономический бум, поэтому наши акционеры снизили требования. Теперь они хотят не 20, а 10 копеек с каждого рубля, поэтому мы готовы дать вам в кредит 10 000 рублей на тех же условиях на 11 лет. Пятью тысячами вы сможете погасить предыдущий кредит, а еще на пять тысяч купить жене посудомоечную машину». Он радостно берет новый кредит, проходит год, ситуация повторяется. «У вас потрясающая кредитная история, и только для вас мы предлагаем взять в кредит 20 тысяч рублей под 5% годовых. Этого хватит, чтобы погасить предыдущий кредит и купить что-то еще». Через год мужчина вновь приходит в банк с 1000 рублей. Ему говорят: «Вы выиграли внутрибанковскую лотерею. Только для вас — кредит под 2,5% годовых». Теперь обращаю ваше внимание: он платит фиксированную сумму, которая не разоряет семейный бюджет, его благосостояние растет. Однако существуют две проблемы — у него все время растет долг и уменьшается стоимость кредита.
Что же сделали США в 1981 году, когда была принята программа «рейганомики», действовавшая буквально до сегодняшнего времени? Тогда учетная ставка федеральной резервной системы США плюс стоимость кредита для банков составляла 19%. В декабре 2008 года она стала равной нулю. С этого времени средний долг американского домохозяйства вырос с 60–65% до величины 132%. Сегодня он чуть-чуть снизился, но все равно составляет более 120%. Этот долг можно пытаться обслуживать при нулевой ставке, но если начать увеличивать ставку, но сразу подскочит и стоимость обслуживания. Начнется коллапс, как это было осенью 2008 года, когда стало понятно, что снижать стоимость кредита больше невозможно. А годовые выплаты для американских домохозяйств на пике кризиса составляли 14%. Кстати, в нашей стране еще совсем недавно они были 7%, сегодня уже 11,5%. Еще чуть-чуть, и мы выйдем на ситуацию, которая произошла в США в 2008 году. Сейчас этот показатель в США составляет около 11%, но все равно это очень много.
Еще одна цифра: средний доход домохозяйств в США по покупательной способности соответствует уровню дохода в 1962–1963 годах. Все, что сверх этого — это или кредиты, или господдержка, то есть увеличение долга бюджета. Единственный источник, на котором эта система действовала — эмиссия. Чтобы она не вызывала инфляции, была создана финансовая система, которая, в свою очередь, создала ряд институтов. Они действуют до сих пор — в частности, это МВФ и Мировой банк. Их цель — не допустить, чтобы эмиссия доллара вызвала инфляцию. Инфляция началась в 1970-е годы, ее пытались купировать сначала повышением ставки, а потом увеличением количества финансовых активов.
Количество кредитных денег в американской экономике к осени 2008 года увеличилось. Когда началась эмиссия, она не вызвала инфляцию, поскольку происходил обратный процесс замещения кредитных денег наличными. Сегодня в США кредитный мультипликатор снова упал до 4, ниже ему опускаться нельзя — начнется кризис, как у нас в середине 1990-х, когда кредитный мультипликатор составлял 1,2, а уровень монетизации экономики опустился до 4% от ВВП. Что это все означает? Сегодняшняя мировая экономика находится в ситуации, когда невозможно больше нормально получать прибыль, потому что падает спрос. Сегодня в США домохозяйства тратят на 20–25% больше, чем получают. В абсолютных цифрах это составляет три триллиона, которые берутся из трех источников — рост долга государства, рост долга домохозяйств и снижение сбережений. А когда же начнется очередной спад в стиле сентября 2008 года? По мнению большинства экспертов, это произойдет до конца 2015 года и будет связано с разрушением пирамид на спекулятивном рынке. Две недели назад это чуть не началось, когда за первый час открытия фондовая биржа упала на 3%. Фондовики утверждают, что к концу 2015 года эта конструкция не выживет. Она может рухнуть сейчас, весной или следующей осенью. Когда это все рухнет, мы попадем в сложную ситуацию, поскольку падение мирового спроса означает падение цен на нефть и объема продаж нефти и газа. Сегодняшний спад цен на нефть связан с двумя обстоятельствами — это снятие санкций с Ирана и увеличение объема продажи нефти в Ливию. И поэтому держать цены становится все сложнее.
У нас есть дополнительная очень сильная проблема. Поскольку мы полностью зависим от МВФ и Вашингтонского консенсуса (это был наш самостоятельный выбор), мы лишили себя внутреннего рублевого инвестиционного ресурса. У нас в стране нет длинных и дешевых денег. Мы пытаемся жить на иностранные инвестиции. Но мы и отдавать их должны в долларах или евро. Если инвестор хочет получать 10% на вложенный каптал, а у нас фиксированный долларовый доход, значит, мы можем переводить в 10 раз больше нашего долларового дохода. В 2000-е годы долларовые доходы росли, и мы привлекали иностранные инвестиции. Это, в основном, были сборочные производства, ориентированные на внутренний спрос. То есть фактически мы отдавали на Запад ту валюту, которую получали от продажи. К концу 2000-х начались проблемы, цены на нефть перестали расти после 2008 года, объемы тоже сокращались, рублевого финансирования не было, проценты стали довольно существенными, уменьшились поступления, вырос импорт. В результате в 2012 году инвестиционный процесс у нас остановился. Последние два года правительство говорит нам, что с бюджетом у нас проблемы. На самом деле, это не совсем так, поскольку довольно большие деньги направляются в фонды, что вызывает у некоторых чувство изумления: они против нас вводят санкции, а мы им даем деньги. Дальше возникает масса вопросов: мы кладем деньги в западные банки под 0,5%, а эти же банки кредитуют наши компании под 7–8%. Возникает естественный вопрос: кто забирает эту разницу? Если кто-то думает, что она остается исключительно в западных банках, я отвечу как Станиславский: «Не верю!»
На самом деле, это сложные схемы, но одно очевидно: наше государство в рамках этих схем жить уже не может. Понятно, почему против нас применяются санкции: кризис, который нависает над Западом, сильно ограничивает его возможности в части сохранения существующих правил игры.
Я был на «Валдайском клубе». Все говорили, что США сначала устанавливают правила, а потом их сами же нарушают, создают себе проблемы и мучаются. На самом деле, правильная формулировка здесь такая: они и рады были бы мучиться, но начиная некоторые длинные проекты, неожиданно обнаруживают, что ресурсов под них уже нет, и начинают выкручиваться. Когда Буш начинал в 2003 году операцию против Ирака, он был уверен, что добьется согласия на это, и это будет не агрессия, а совместная операция. У него не получилось.
В 1910 году, после кризиса 1907–1908 годов, американские банкиры приняли решение, что нужно создать институт рефинансирования банковской системы. В 1913 году был принят закон о федеральном бюджете. В 2011 году, через 100 лет, было решено, что надо централизовать мировую финансовую систему, проведя то же, что было сделано в 1913 году в масштабах США, теперь в мировом масштабе. Сделать Центробанк Центробанков на базе МВФ. И тут американская бюрократия говорит, что не может сделать, чтобы контроль над эмиссией доллара взяла на себя межгосударственная структура, не подчиняющаяся Конгрессу и президенту США. После этого произошел раскол в мировой финансовой элите, потому что международные банки спасти уже невозможно. Как мы знаем в 2008–2009 годах в них были вложены немалые средства, и когда обрушатся финансовые рынки, произойдет масса проблем.
До Второй мировой войны банковская система перераспределяла в свою пользу 5% той прибыли, которая образовывалась в экономике. В конце 1940-х годов эта цифра увеличилась до 10%. Сегодня финансовая система перераспределяет в свою пользу больше 50% прибыли. Экономика с такой долей налогов и посредников существовать не может и в ближайшие год-два рухнет. Она уже рушится с 2008 года. Основная проблема состоит в том, что до 2008 года США были готовы делиться эмиссионной прибылью, и мы получали свою долю через высокие цены на нефть, а сегодня они больше делиться не могут ни с кем. Они собираются уничтожить Евросоюз как экономическую державу через создание зоны свободной торговли, потому что как только будут сняты барьеры между США и Евросоюзом, последний станет неконкурентоспособным. С нами это уже сделали, однако, если произойдет обвал, о котором я говорил, то обнаружится, что мировая экономика без долларовой поддержки начнет фрагментироваться.
Если мы начинаем импортозамещение и предъявляем программу, то можем получить от двух до четырех триллионов. Если предположить только два триллиона, это примерно равно официальному ВВП России и примерно 70% от реального ВВП. Если мы объявляем программу на 10 лет, то получим около 7% к нашему сегодняшнему росту. Если кто-то не верит, давайте рассмотрим ситуацию в Казахстане, где структура доходов схожа с нашей и пять лет действует программа импортозамещения: здесь экономический рост составляет плюс 5%.
Где-то два месяца назад, когда США начали кампанию санкций, наше правительство и Центральный банк стали делать заявления: накопительная часть пенсии будет направлена в Крым, мы собираемся повышать налоги и т. д. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что это согласованная кампания.
Мы сегодня находимся в ситуации, когда у нас есть два варианта: либо мы продолжаем существовать в рамках инструкций МВФ, либо меняем экономическую политику и переходим к политике роста. Но это радикальные изменения.
Если наступит кризис на Западе, количество богатых людей может сократиться в 10 раз. Им это не нравится, поэтому чтобы выжить там, им нужно ограбить кого-то здесь. Никому не нужно сегодня кредитовать российскую экономику. То, что может выжить в мировой экономике, должно упасть в цене практически до нуля. Американский дядюшка купит это за 20 копеек, но потом ему с этим надо будет что-то делать, нас уже не спрашивая.
Раньше я работал в администрации президента и был знаком с Владимиром Владимировичем, и у меня есть глубокое убеждение, что он примет определенные решения. Но сказать, что и как он будет делать, я пока не могу.
Кризис у нас все-таки будет, потому что мы поздно начали программу импортозамещения. Чтобы ее запустить, нужно два-три года, и на этот период нас ожидает спад. В чем проблема? Мы привыкли жить на завышенном спросе, а не на падающем рынке. Вместе с тем, большие состояния делаются именно на падающем рынке, потому что его специфика состоит в том, что количество компаний сокращается быстрее, чем падает сам рынок. Ключевой момент — это ожидание того, когда «выпадут» конкуренты. Нужно иметь резерв, чтобы «прожить» чуть-чуть дольше — открытые кредитные линии, отсутствие большой кредитной нагрузки и т. д. Важна правильная политика с персоналом. Когда денег много, начинает развиваться концепция офисного планктона: работу, которую могут сделать двое (этих специалистов высокого уровня нужно искать, держать, чтобы не сбежали к конкурентам), выполняют 10 человек. На падающем рынке цена плохого работника, например, в банке резко вырастает.
Нас ждет примерно минус 30% спада. Мир ждет ситуации спада на 50% по ВВП. Финансовый сектор сократится в 5–10 раз, а реальный сектор — на 30–35%. Изменится структура, это приведет к принципиальным изменениям в структуре цен и спроса. У одних предприятий издержки будут падать быстрее, чем доходы, и в результате они будут получать сверхприбыль, а у других все будет наоборот.
Сегодня, если нам закрыть долларовое финансирование, как это было сделано, не исключено, что финансовые рынки на Западе рухнут раньше, чем наш.
Мы должны услышать, что скажет в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин».